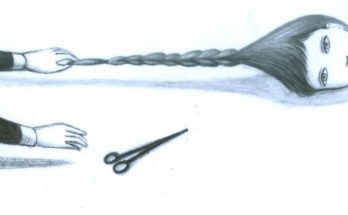Научный журналист Эйприл Риз, пережив смерть отца, изучила научные подходы к скорби.
Когда утром 2 апреля медсестра хосписа позвонила и сказала, что мой отец умер в 7:38, всего через два дня после того, как его выписали из больницы, и через семь часов после того, как я приехала в город, чтобы увидеть его, мир внезапно стал ощущаться странным, неполноценным. Я узнавала формы вещей, но не могла понять, что вижу. Я не осознавала, насколько важной опорой моего существования он был, пока эта опора не рухнула. С того дня, как я родилась, он постоянно присутствовал в моей жизни, даже на расстоянии 2000 миль — он жил в Мэриленде, а я в Нью-Мексико. А теперь его больше нет. Мой рациональный разум понимал, что это правда, но все остальное во мне отказывалось в это поверить.
Внешне я оставалась спокойной, осмысливая неприятные обязанности, возложенные на старшего ребенка покойного: рассказать другим членам семьи, уведомить государственные учреждения, компании, организации, университет, где он проработал библиотекарем 33 года. Но внутри меня бурлил водоворот эмоций: печаль, замешательство, гнев, неверие, страх, сожаление, вина. В первые часы, дни и недели после его смерти мне временами было трудно дышать. Я не могла сосредоточиться. Я то и дело что-то забывала. Постоянно была разбитой, сколько бы ни спала. Я стала понимать, что имела в виду Джоан Дидион в книге «Год магического мышления» (2005), хронике ее горя после потери мужа, говоря: «Я осознала, что сейчас не могу доверять себе, чтобы показать миру гармоничное лицо».
Оказывается, этот туман горя так же обычен, как и само горе. Когда девять лет назад невролог Лиза Шульман потеряла мужа из-за рака, она «была серьезно опечалена, но не это было главной проблемой». «Это была дезориентация. Мне казалось, что я просыпаюсь в совершенно чужом мире. Потому что вся инфраструктура моей повседневной жизни была разрушена», — вспоминает она.
Она терялась во времени и не понимала, где находится, будучи в знакомых местах. «Это не просто вопрос дискомфорта или беспокойства. Это страшно, — говорит она. — Потому что вы чувствуете, как давно сказала Дидион, что сходите с ума».
Идея пяти стадий проживания горя — отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие — распространенная в западном мире, не помогает. Психиатр Элизабет Кюблер-Росс впервые предложила этот подход в книге «О смерти и умирании» (1969) как способ описания опыта людей, сталкивающихся с неизлечимой болезнью. Позже, вместе с экспертом по смерти Дэвидом Кесслером, она объяснила реакцию на потерю в книге «О горе и скорби» (2005). Но в последние годы психологи и нейробиологи пришли к выводу, что горе гораздо более сложное и индивидуальное явление. Разрушительные последствия горя многочисленны и разнообразны. Человек, понесший тяжелую утрату, конечно, грустит, но он также может чувствовать гнев, раздражительность, усталость, демотивированность, подавленность, даже усиленную раздражительность из-за шума. Он может сомневаться в своей идентичности, в своем месте в мире.
Оказывается, теория пяти стадий проживания горя — не самый полезный способ отношения к тяжелой утрате. На самом деле, он может быть вредным: если чувства не соответствуют шаблону, мы можем подумать, что что-то не так с нами или с людьми вокруг нас.
«Немаловажно, что мы можем отказаться делать то, что инстинктивно нас утешает, думая, что есть правильные и неправильные способы поведения, — пишет Шульман в книге «До и после потери» (2018). — Но наш опыт потери личный и интимный. Он не поддается обобщению. Он такой же уникальный, как и мы сами».
Изучение людей, понесших тяжелую утрату, показало, как по-разному каждый переживает горе, но также наблюдались некоторые интересные закономерности. Замечательное исследование депрессии у людей, потерявших близких, опубликованное в Journal of Psychiatric Research в 2015 году, было основано на наблюдении за 2512 людьми, потерявшими супруга или ребенка, в течение 18 лет. Исследователи обнаружили, что 7% участников страдали хронической депрессией, которая сохранялась на протяжении всего периода исследования, но большинство — около 68% — испытывали только легкую депрессию или вовсе ее не испытывали. Между тем, у 11% была депрессия перед смертью близкого, но со временем она уменьшилась, а 13% испытывали хроническое горе — депрессию, начавшуюся после смерти.
Собственный опыт вдохновил Шульман, изучавшую болезнь Паркинсона, исследовать неврологию горя, чтобы понять, что с ней происходит. В своей книге, в которой история скорби переплетается с наукой о тяжелой утрате, она отмечает, что горе — это универсальный человеческий опыт, и наш мозг эволюционировал, чтобы справляться с ним. За тысячелетия коллективной утраты мозг разработал сложную стратегию, которая помогает нам пережить тяжелую потерю и, в конечном итоге, исцелиться, говорит психолог Наталья Скрицкая. «Горе — это естественная реакция, — отмечает она. — Какими бы тревожными и странными ни были эти реакции, для них есть веские причины».
Я поняла, что горе оказывает на нас такое сильное влияние, что перестраивает мозг: лимбическая система — основная часть мозга, контролирующая эмоции и поведение, ответственная за выживание — занимает центральное место, а префронтальная кора головного мозга — центр рассуждений и принятия решения — уходит на второй план.
«С эволюционной точки зрения мы запрограммированы на то, чтобы реагировать на угрозу, — говорит Шульман. — Часто мы не воспринимаем потерю любимого человека как угрозу в этом смысле, но с точки зрения мозга она воспринимается именно так».
Такое восприятие угрозы означает, что срабатывает реакция выживания — «бей или беги», и тело наполняется гормонами стресса. Психолог Мэри-Фрэнсис О’Коннор из Университета Аризоны и другие исследователи обнаружили повышенный уровень гормона стресса кортизола у людей, потерявших близких.
Пока кортизол быстро растекается по телу, мозг перестраивается — по крайней мере, временно — чтобы помочь нам пережить горе. В течение нескольких недель после потери мозг, как строгая медсестра, следящая за соблюдением постельного режима, подавляет центры управления высшими функциями, такими как принятие решений и планирование. В то же время, по словам Шульман, области, связанные с эмоциями и памятью, работают сверхурочно. Сканирование мозга скорбящего показывает, что горе активирует части лимбической системы, которые иногда называют «эмоциональным мозгом». Среди затронутых лимбических областей — миндалевидное тело, которое регулирует интенсивность эмоций и восприятие угрозы, поясная кора, участвующая во взаимодействии эмоций и памяти, и таламус, своего рода ретрансляционная станция, которая передает сенсорные сигналы в кору головного мозга.
«Для поддержания функционирования и выживания мозг действует как фильтр, определяющий порог эмоций и воспоминаний, с которыми мы можем и не можем справиться», — пишет Шульман в своей книге. Мы мало что можем сделать, чтобы изменить эту реакцию, да и не всегда хотим. Это важно, чтобы справиться с потерей. «По сути, мы находимся во власти всего этого процесса», — утверждает Шульман.
Так что, по уверению Скрицкой, мне не нужно беспокоиться из-за того, что я не всегда могу составить связные предложения или вспомнить, что хотела достать из холодильника: мозг просто отключил мое мышление, чтобы я могла пережить утрату. Это такое размытое восприятие, то, что я стала называть «мозгом горя».
«Горе занимает большую часть мозга, — пишет Шульман. — Странное поведение и непоследовательность — это ожидаемые последствия защитных реакций мозга после эмоциональной травмы».
Тело знает, как залечить рану, а мозг — как исцелиться после потери. Но это исцеление требует времени, говорит Скрицкая: «Оно требует доброты и нежности к себе».
У каждого человека длительность скорби разная. Одним достаточно нескольких недель или месяцев, а другие и через год испытывают глубокую печаль.
Однако недавние исследования показывают, что если горе будет слишком сильным и продолжительным, это может стать проблемой. Многие психологи теперь считают, что если утрата беспокоит больше года, возможно, человеку требуется лечение, чтобы прийти в себя. Состояние, называемое длительным расстройством горя или сложным горем, включено в последний том «Руководства по диагностике и статистике психических расстройств», которое психологи и психиатры используют для диагностики клиентов.
Нельзя сказать, что если кто-то глубоко скорбит на 366-й день после потери близкого, его тяжелая утрата внезапно становится расстройством. «Этот [годичный] временной интервал в каком-то смысле произвольный, — говорит Скрицкая. — Это баланс между тем, чтобы не считать патологией нормальные реакции, и вниманием к людям, которые, кажется, не справляются и нуждаются в дополнительной помощи — тем, кто переживает более интенсивный опыт».
Согласно исследованию 2019 года, проведенному учеными из Нидерландов и США, люди, потерявшие близких в результате насилия или имевшие очень близкие отношения с умершими, более уязвимы. Легко предположить, что затяжное горе — это просто форма депрессии и лечить ее нужно соответственно, но это не так. В том же исследовании отмечается, что сложное горе отличается от депрессии, посттравматического стресса или тревоги, хотя некоторые симптомы, такие как снижение самоощущения и социальная изоляция, совпадают. Другое исследование показало, что снижение когнитивных функций более выражено у людей с тяжелым горем.
Однако случаи сложного горя редки. По данным исследования 2017 года, проведенного учеными из Орхусского университета в Дании, его испытывают только около 10% людей. Большинство людей, понесших тяжелую утрату, балансируют между активным переживанием скорби и выполнением повседневных обязанностей с некоторым подобием нормальности.
Это колебание между печалью и подобием нормальности подтверждает и мой собственный опыт. Например, работая над этим эссе, я временами входила в состояние потока — длительных периодов сфокусированного написания — как делала это до смерти отца. Но в другое время, часто во время одной и той же рабочей сессии, меня охватывало отчаяние и острое осознание того, что папы больше нет. Когда мысли о нем появлялись сами по себе, либо в связи с каким-либо триггером вроде электронного письма от друга или члена семьи, я ничего не могла поделать, кроме как остановиться и рыдать.
Как будто мой первобытный мозг точно знал, что мне нужно, и заботился о том, чтобы я это получила.
Теперь исследователи признают, что непредсказуемые проявления горя, какими бы неприятными они ни были, — это способ помочь мозгу, разуму и телу справиться с потерей и, в конечном итоге, адаптироваться к новой реальности жизни без любимого человека.
Постепенно, «в процессе преодоления утраты, примирения с тем миром, в котором вы не хотите быть», горе становится больше интегрированным в повседневную жизнь, чем доминирующей силой в ней», — говорит психолог Квинслендского университета в Австралии Джудит Мюррей.
«Это невероятная сила исцеления от горя, — говорит она. — Мы считаем, что преодолеваем свое горе, но оно становится частью того, кто мы есть».
Когда кора головного мозга берет бразды правления и возвращается к мышлению более высокого уровня, разум может тратить больше времени на размышления о потере и отношениях, и попытка осмыслить все это приводит к положительному росту. Утрата вдохновляет людей на более глубокое изучение жизни, чем раньше, помогает лучше осознать свою хрупкость и дает более сильное чувство цели, пишет Шульман. Она цитирует исследование 2004 года, говорящее, что потеря может привести к положительному росту несколькими путями: новое чувство приоритетов и большее понимание жизни, улучшение отношений с близкими, чувство силы, склонность видеть новые возможности и духовное развитие. На собственном опыте Шульман обнаружила, что ведение дневника помогает справиться с горем. Размышляя о своей потере, она нашла в ней смысл.
Однако не все переживают такой рост после тяжелой утраты. Кому-то скорбь стоит собственного здоровья — и даже приводит к смерти. В статье в Psychosomatic Medicine 2019 года О’Коннор отмечает, что многочисленные исследования выявили повышенный уровень смертности среди людей, понесших тяжелую утрату. Мой отец — еще один печальный пример того, как горе способствует преждевременной смерти. Его жена умерла за четыре месяца до его смерти, после этого здоровье его ухудшилось. Когда он попал в больницу, врачи, наконец, установили причину боли, из-за которой он был прикован к постели: у него развилась серьезная язва желудка. Я не могу знать наверняка, но, судя по нашим разговорам, именно горе и одиночество способствовали его быстрой кончине.
Даже у тех, кто преодолевает бурные пороги скорби, не падая за борт, горе никогда не отступает полностью. Исследование 1995 года показало, что люди, потерявшие ребенка или партнера, от 2 до 15 лет после тяжелой утраты ощущали снижение общей удовлетворенности жизнью, но при этом оказывались более стойкими при столкновении с трудностями.
Понимание неврологической основы моего горя и того, что за ним часто следует рост — это утешение, хотя я знаю, что до любого роста, который я получу после смерти отца, еще очень далеко. А пока я пытаюсь справиться с возникающими эмоциями по мере их появления, без осуждения, и ищу утешения у друзей и в сосновых лесах рядом с домом.
Письмо, которое я получила на днях от старейшего друга моего отца, который знал его 70 из 79 лет, дает мне надежду на будущее, в котором эта безвозвратная потеря больше не будет такой сильной, когда нейронные пути снова перестроятся и мой «мозг горя» уступит место новой реальности и новым воспоминаниям.
«Когда мы теряем друга, наша скорбь сопровождается теплыми воспоминаниями, — написал он. — В конце концов, теплые воспоминания отодвигают горе на задний план. Я жду этого с грустью, но терпеливо».